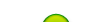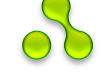(из книги Израиля Самуиловича Фишмана* "Воспоминания и размышления")
После гибели отца мать осталась одна с семью малолетними детьми, из которых старшему было 15. Мы с трудом перебивались. Мать хлопотала, и государство ей дало бесплатный патент на право торговли в лавке. Несмотря на материальные трудности, наша семья считалась "аристократической". В ней господствовал дух учения. Мать “пожертвовала" одним из своих сыновей - Сендером. Он ей помогал в лавке и не учился в школе. Остальные все учились сначала в хедере , затем в школе, а порой и одновременно. Старший, Мотя, учил в синагоге талмуд. Помню, когда я просыпался ночью, меня охватывал жуткий страх: по стене равномерно ходила тень читавшего гемору старшего брата, который раскачивался из стороны в сторону с застывшей гримасой на лице.
Помню, один год и я ходил в хедер. Днем в школу, вечером - в хедер. Мы шутили: днем бога нет, вечером есть. В это время у меня выработалось стойкое антирелигиозное мировоззрение, которому никогда не изменял. Будто этот вопрос для меня уже тогда был решен окончательно.
Вся наша большая семья больше всего интересовалась математикой, вернее арифметикой. По мере продвижения из класса в класс были одни разговоры об арифметических действиях. Сначала простые дроби, потом десятичные, потом проценты и т. д. Потом пошла алгебра. Я был пятым и учился, идя уже по готовой дороге, проторенной старшими братьями. Кстати, я хорошо помню своего ребе из хедера. Это был круглолицый старик с большой круглой бородой. Он наказывал, ударяя тыльной стороной ладони по руке, и притом пребольно.
В школе я очень любил решать сложнейшие задачки. Благо учитель Фрадлин - хромой старик - любил их задавать. Задачки я решал в школе, дома, за обедом, по дороге в школу. Голова постоянно работала и не только над задачами. Я постоянно думал, думал, думал. Иногда встряхнешь головой, посмотришь вокруг и опять погружаешься в раздумья.
О школе у меня остались еще два воспоминания - физкультура и темная зимняя ночь. Холодный деревянный пол в нетопленом зале физкультуры приводил меня в отчаяние. Я подгибал ноги, то одну, то другую, прыгал, но ничего не спасало от холода во время занятий физкультурой.
Что касается зимней темной ночи, то наша школа находилась далеко от дома, по другую сторону местечка. Когда я возвращался из школы, была кромешная тьма, и мне казалась дорога из школы домой нескончаемой. Однажды, уже недалеко от дома, я остановился и дал себе слово никогда не забывать это место, этот миг, как я стою посреди площади недалеко от дома, одинокий и заброшенный. И, действительно, на протяжении всей своей жизни нет-нет, а вспоминаю этот эпизод. Мне было тогда 15 лет, я заканчивал школу и должен был пуститься в долгий путь, предначертанный мне моей судьбой.
У меня были товарищи. Один из них Буним, сын мельника, жившего напротив. Это был удивительно отчаянный человек. Однажды на пустыре, играя в лапту, он на моих глазах взял хладнокровно огромный булыжник и запустил им с близкого расстояния прямо в голову противника. Меня тогда это хладнокровное убийство поразило. Позднее я его встретил, и он откровенно мне рассказал, что он профессиональный бандит, сидел, промышлял главным образом воровством. И сейчас, когда он дал слово своему брату бросить воровство, он говорит, что его очень тянет воровать и он по воскресеньям ходит на базар, стащит у кого либо что-нибудь и опять возвращает украденную вещь владельцу. Такая уж у него привычка...
В школе вся наша семья училась очень хорошо. Все нас хвалили, и мы были постоянной гордостью мамы. Но первые годы революции не прошли бесследно. Это была пора большой политической активности. Помню горбатую Енту, мою тетю. Мы ее называли " делегаткой". Она была швеей и общественницей. Но примерно с 1922 года начались регулярные поджоги. На мой неокрепший организм эти поджоги наложили большой отпечаток. Я стал очень нервным. С ужасом ждал ночи. Вдруг издалека слышишь: "Пожар! Пожар!". И красное зарево. Меня начинала бить мелкая дрожь. Это контрреволюция мстила активистам, коммунистам.
Еще при жизни Ленина мы очень хорошо его знали. Все мы хорошо рисовали его профиль. Помню день смерти Ленина. Я целый день рисовал его. Может, с тех пор у меня осталась привычка везде, на лекциях, дома, за обедом, рисовать разные профили людей. В 1927 году было не без перегибов. Вдруг закрыли все четыре синагоги и единственную церковь. Красавицу-церковь превратили в какой-то склад зерна. Так одним махом решили проблему религии. Декретом запрещалось не работать. Все стали искать себе работу. Становились извозчиками, возили лес. Мой старший брат стал учиться сапожному ремеслу, и это ему давалось очень трудно.
В начале двадцатых годов в нашем местечке, по всей вероятности, еще была организация сионистского толка. Она осталась, вероятно, с дореволюционных времен. Помню, в этой организации, если она существовала, я состоял в нижнем ее звене, был так называемый "звейнэ", в переводе, "волчонок", типа октябренка в пионерской организации. Мой старший брат Наум был "гехолуц" - комсомольцем, а самый старший Мотке был уже сионистом, т. е. членом партии. Не знаю подробно о деятельности сионистов. Помню только, что ими организовывались время от времени сходки, обычно в лесу. Для меня эти сходки были чрезвычайно интересны. Мы с ребятами лазили по деревьям, играли, кувыркались, прятались и визжали. Вся эта сионистская деятельность внезапно прервалась. В 1926-27 годах, после государственного запрета всякой религиозной деятельности, был в запрете и сионизм. Мой старший брат тщательно скрывал, что был сионистом. Принадлежность к сионистам могла стоить человеку жизни.
Моя общественная "деятельность" протекала в школе. Почему-то меня выдвигали на те или иные мероприятия, предлагали сочинять стихи для стенгазеты, а однажды предложили выступить с трибуны. Это было, помнится, в праздник Октябрьской Революции. В маленьких местечках не устраивали демонстраций, а организовывали митинги. Помню, меня взяли на трибуну, поставили на скамейку. От волнения я никого не видел, ничего не слышал. Волновался необычайно. Я пропищал детским тонким голоском примерно следующее: " Товарищи, там, за границей, дети умирают с голоду. Буржуи заставляют их работать. Здесь мы живем счастливые и празднуем праздники". Мне тогда было то ли восемь, то ли девять лет. Мое выступление сопровождалось громом аплодисментов. Меня сняли со скамейки. От волнения я не мог перевести дыхание.
Значительно позже, когда мне было 13 или 14 лет, я от пионерской организации ходил по деревням и агитировал против злейшего врага Советской власти - религии. Я действительно был тогда убежденным атеистом. Я ходил пешком в ближайшие деревни. Тогда, в первые годы революции, активность населения была высокой. К моему удивлению, зал бывал полным. От меня не ускользали скептические взгляды крестьян. Ну что мог знать и сказать о Пасхе (кажется, это было под Пасху) городской мальчик моих лет? И все же я смело крыл религию, как опиум для народа. Я был горд своим поручением и старательно его выполнял.
*Хойніцкую яўрэйскую сямігодку скончыў у 1928 г. (С. Б.)