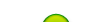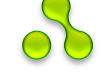Матвей Милявский
Хойники – моя любовь и боль
Среди лесов и болот белорусского Полесья, вдали от столбовых дорог, расположены Хойники – городок, отстоящий на 103 километра от Гомеля, последняя остановка железнодорожной ветки Василевичи – Хойники – Калинковичи –  Гомель. Автомобильные дороги связывают его с Речицей. После страшной атомной аварии в Чернобыле в 1986 году Хойники получили печальную известность как место в Беларуси, особо пострадавшее в результате трагедии – радиоактивное облако накрыло городок.
Гомель. Автомобильные дороги связывают его с Речицей. После страшной атомной аварии в Чернобыле в 1986 году Хойники получили печальную известность как место в Беларуси, особо пострадавшее в результате трагедии – радиоактивное облако накрыло городок.
Название Хойники происходит от слова хвоя.
Вокруг бескрайние леса хвойных деревьев, раскинувшиеся на многие сотни километров вокруг. Первое упоминание о Хойниках как самостоятельном поселении относится к 1512 году, когда оно входило в состав Брагинского графства.
Евреи поселились в Хойниках давно, но документально это подтверждается с середины XIX века. Ревизия 1847 года установила, что Хойникское еврейское общество состояло из 2393 человек. К 1886 году здесь действовало три синагоги.
“Хойники – это хорошее местечко в самом сердце Полесья с маленькой гостиницей и почтовым отделением”, – сказано в Географическом справочнике, изданном в Варшаве в 1880 году. По переписи 1897 года, в Хойниках проживало 2685 жителей, из которых 1668 человек (62 %) были евреями. В 1906 году население местечка выросло до 2865 человек, включая 299 православных, 717 католиков и 1849 иудеев (64,5%). Даже после революции евреи составляли значительное количество среди жителей местечка – 2053 человек (60%) в 1926 г. и 1645 человек в 1939 году (48%).
Хойники были разделены на две части центральной улицей Советской. На восток шли улицы Школьная, Интернациональная, Пролетарская, Кузнечная, Глухая. От них отделялись другие улочки и переулки. На Запад за жилыми одноэтажными домами тянулись огороды, которые местные жители возделывали с ранней весны, выращивая картофель и другие овощи. За огородами начинались бескрайние  болота. Летом местная детвора забиралась в эти дебри, чтобы нарвать съедобную зелень – плюшняк. Его сносили в местечко целыми снопами и, устроившись на крыльце, с удовольствием ели сами и угощали прохожих. Современному поколению моих земляков вряд ли придет в голову такая затея, но для нас бродить по болотам и жевать сладкие стебли было привычным развлечением.
болота. Летом местная детвора забиралась в эти дебри, чтобы нарвать съедобную зелень – плюшняк. Его сносили в местечко целыми снопами и, устроившись на крыльце, с удовольствием ели сами и угощали прохожих. Современному поколению моих земляков вряд ли придет в голову такая затея, но для нас бродить по болотам и жевать сладкие стебли было привычным развлечением.
Зимой болота замерзали и становились пригодными для любителей кататься на санках и коньках. Часами мы бродили по замерзшему лабиринту непроходимого летом болота, порой удаляясь от дома  довольно далеко.
довольно далеко.
[Шеел Борухович Милявский (1879 – 1971). Хойники. 1962 г.] [Рива Нохимовна (Столяр) Милявская (1872 – 1971). Хойники. 1962 г.] Хойники – это незабвенная память о детстве, школьной жизни, верных друзьях, любви к маме Риве – самой доброй и нежной, заботливой и ласковой. Родители воспитали шестеро детей: трех дочерей (Маню, Аню, Броню) и трех сыновей (Бориса, Яшу и меня – Мотеле). Когда маму разбил паралич и она долгие семь лет была прикована к постели, соседи приходили к нам в дом не столько из сострадания, сколько за советом в сложных житейских делах.
В местечке многие имели клички. Моего отца Шеела звали Буцик, почему – мне до сих пор не известно. Нас, его детей, так и звали – дочь (сын) Буцика. Мы же расшифровывали это по-своему: «Белорусско-Украинский Исполнительный Комитет» и даже гордились. Отец был невысокого роста, плотный. Сколько я себя помню, он всегда был озабочен заработком. Это был настоящий труженик, ни минуты не сидящий без дела. Добрый отец и любящий муж, Шеел был человеком замкнутым, но умел оставить в разговоре за собой последнее слово, и окружающие прислушивались к его мнению. Не пил, почти не курил и никогда не повышал голоса. После долгих лет совместной жизни родители стали похожи друг на друга, как близкие родственники.
Идиш в Хойниках слышался повсюду – дома, во дворе, в магазине, мастерских и на школьной перемене. Белорусы и поляки – соседи евреев в нашем местечке – хорошо понимали, а некоторые довольно бойко говорили на идиш. Помню, когда мои сверстники приходили к нам в дом и мама, плохо говорившая по-русски, мешала слова, пытаясь с ними объясниться, мы слышали от них: «Муме Рива, рет аф идиш» (тетя Рива, говорите на идиш).
Помню песню «Махатенисте майне», которую распевали в 1939 году. Лучше других в Хойниках это получалось у белорусской девушки Лиды. По вечерам соседи собирались у ее дома и просили исполнить еврейские песни. Еще один эпизод, который сохранила память, связан с военной порой. В августе 1945 года после многокилометрового перехода Чешко-Будовица – Брно, наша часть остановилась на ночлег в одном из сел. Я и еще несколько солдат отправились в  поисках колодца и совершенно неожиданно встретили моего одноклассника Исаака Добкина.
поисках колодца и совершенно неожиданно встретили моего одноклассника Исаака Добкина.
– Мотя, – сказал он, как называли меня в детстве, – здесь есть еще наши из Хойников.
Мы вошли в хозяйский двор, и Исаак крикнул:
– Платон Евгеньевич, смотрите, кого я привел!
Высокий мужчина с погонами сержанта обернулся и воскликнул:
– Мотеле, кинд майнер, фун ванен кумете? (Мотеле, мой мальчик, откуда ты появился), – и бросился ко мне.
[Старые Хойники] Платон Гуща был старше нас лет на 20, до войны жил на Привокзальной улице недалеко от тети Бейли. Вместе с братом Яшей мы наведывались в его фруктовый сад. Вдали от родных мест он разговаривал со мной на идиш, изредка вставляя белорусские слова.
Помню рассказы Баси Смоленской из Глухого переулка, в котором стоял наш дом. Дети Баси – Гершл, Берл и Шифра – были друзьями со школьной скамьи. Большой двор их дома служил местом встречи наших сверстников. Мы играли в волейбол и устраивали репетиции самодеятельного драмкружка. В большом почете были тогда пьесы Шолом-Алейхема и Антона Павловича Чехова, переписывали стихи запрещенного до войны Сергея Есенина. Тогда нашими кумирами были Ворошилов, Буденный, Пархоменко.
Будучи студентом исторического факультета педагогического института в Ярославле, я подолгу просиживал у Баси Смоленской, задавая вопросы. Она вспоминала об участии местных евреев в событиях предреволюционных лет, о марксистских кружках. Жители Хойников не остались в стороне от событий первой русской революции 1905-1907 годов. Урядник Черняк не церемонился. Человек огромной физической силы, он пугал присутствующих одним своим внешним видом. Но однажды во время разгона демонстрации в него стреляли и Черняк погиб. По следам этих событий арестовали Моше Бурдецкого и еще двух человек из близлежащих к Хойникам деревень.
Местечко жило в страхе. На ночь евреи закрывали двери и окна на все запоры, опасаясь действий хулиганов, получивших подмогу из других мест.
В годы гражданской войны Хойники стали местом погромов «освободительной армии» Булак-Булаховича и Савинкова. Старожилы помнили гробы, установленные в помещении еврейской школы. [Матвей Милявский. Кечкемет (Венгрия). 1945 г.]
В Хойниках были последователи сионистской идеи, в основном, молодые люди. К сионистам примкнул и мой старший брат Борис и дядя Моисей – мамин брат. Моисей был поздним сыном дедушки Нохима и бабушки Нехамы, поэтому Борис и Моисей оказались почти ровесниками – 1905 и 1907 годов рождения. В начале двадцатых годов по Белоруссии прокатились аресты сионистов, но моих родных вовремя предупредили. Накануне визита ОГПУ они ушли из дома. Борис долго прятался у знакомых крестьян и изредка давал о себе знать. Моисей исчез из поля зрения и только в 1923 году дедушке передали, что Моисей жив и здоров, живет в Палестине. Моисей долгие годы строил дороги, участвовал в войне за Независимость и других войнах с арабскими интервентами.
 [Мотель Каралинский, брат Матвея Милявского. Днепропетровск. 1951 г.] Дедушка, опасаясь за судьбу близких, и особенно за старшего сына Хаима, жившего в Петрограде, долгое время держал это известие в тайне. После войны, в 1947 году в Хойники на наше имя пришла посылка из Палестины. Но родители, опасаясь последствий для других детей, отказались ее получить. Прошло еще почти пятьдесят лет, Советский Союз распался, и мы получили возможность выехать на постоянное место жительства в Израиль.
[Мотель Каралинский, брат Матвея Милявского. Днепропетровск. 1951 г.] Дедушка, опасаясь за судьбу близких, и особенно за старшего сына Хаима, жившего в Петрограде, долгое время держал это известие в тайне. После войны, в 1947 году в Хойники на наше имя пришла посылка из Палестины. Но родители, опасаясь последствий для других детей, отказались ее получить. Прошло еще почти пятьдесят лет, Советский Союз распался, и мы получили возможность выехать на постоянное место жительства в Израиль.
В 1992 году мы разыскали семью старшего сына Моисея – Якова. Сам Моисей не дожил до желанной встречи, о которой мечтал всю жизнь. Он умер в 1972 году. Вскоре умерла и моя сестра Хана, инициатор поисков Моисея, но она успела передать нам адрес Якова в Кирьят-Бялике. Круг замкнулся, и через 80 лет дети восстановили родственные узы, которые оказались разорванными стратегами глобального интернационализма.[Лев Ражавский (1925 – 1980?), друг детства и юности Матвея Милявского. Клайпеда. 1948 г.]
По переписи 1926 года в Хойниках проживало 2053 еврея. Чем они были заняты? Жизнь при советской власти входила, как казалось многим, в новую светлую полосу, но евреи продолжали привычные занятия. Своим делом занимались портные, сапожники, извозчики, парикмахеры, коробейники, торговые посредники. Однако частное предпринимательство власти запретили, все национализировали. Самым крупным предприятием местечка стал лесопильный завод “Возрождение”. На окраине стояла большая ветряная мельница Бориса Факторовича. Работала мастерская по ремонту земледельческих орудий. В начале Советской улицы располагалось здание торгового центра: магазин мануфактуры, галантереи и готовой одежды. В тридцатые годы, когда проносился слух о том, что привезли товар, то с вечера выстраивалась длинная очередь. Там же находился обувной отдел и лавочка скобяных товаров. Напротив него стоял магазин писчебумажных товаров и книжный, где школьники покупали канцелярские принадлежности и учебники. Рядом примыкало здание народного суда. Маленькие ларечки теснились вдоль всей главной улицы. Счастливчики могли купить там фруктовую воду, морс, мороженое. В центре Хойников имелась контора райпотребсоюза. Сюда, чаще всего по воскресеньям, приезжали крестьяне из окрестных сел. Там они меняли продукты своего домашнего хозяйства (яйца, сыры, колбасы, мед и пр.) на соль, спички, гвозди и другие предметы повседневного спроса. Многие предпочитали приехать в субботу вечером и заночевать у знакомых евреев, чтобы с рассветом занять очередь. В одном из этих приемных пунктов работал мой отец Шеел-Буцик. Иногда он просил меня помочь разложить товар или принимать продукцию у крестьян.
Самая большая сапожная мастерская в конце тридцатых годов размещалась в бывшей синагоге – самом красивом здании в Хойниках. Оставалось еще несколько частников, тачавших обувь и ни за что не соглашавшихся вступать в артель. Среди них был наш сосед Липа Смоленский. Я часто бывал у него дома, играл с его сыновьями – моими сверстниками Мишей и Борисом. Сколько помню, Липа всегда пропадал за верстаком, а в руках у него был инструмент. Власти сделали единоличников, не признававших коллективного начала, изгоями. Однажды Липу забрали и требовали отдать деньги, нажитые “не честным” трудом. Десять дней его продержали в местном остроге, вызывали на допросы и угрожали, но потом вынуждены были отпустить.
В Хойниках было небольшое швейное производство, где шили и ремонтировали одежду. Но большинству жителей местечка покупать эту продукцию было не по карману, поэтому для детей матери шили на дому. У мамы была ножная швейная машинка фирмы “Зингер”, благодаря которой она нас обшивала, а к зиме у нас были матерчатые валенки.
Парикмахером был Хазанович. Искусно орудуя ножницами и расческой, он успевал за время стрижки расспросить у клиента все семейные новости, планы и давал свои комментарии. В 1947 году я приехал в отпуск к родителям и заглянул  подстричься. Хазанович обратил внимание на мою форменную одежду курсанта МДК ВПУ и поинтересовался, что это значит. Я расшифровал – Московское дважды краснознаменное военно-политическое училище им. В. И. Ленина. В ответ я услышал: «Ну и дает, Мотл-Буцик!» Вскоре все Хойники были в курсе, что сын Ривы-Буцик учится не просто в Москве, а в каком-то заведении имени самого Ленина.
подстричься. Хазанович обратил внимание на мою форменную одежду курсанта МДК ВПУ и поинтересовался, что это значит. Я расшифровал – Московское дважды краснознаменное военно-политическое училище им. В. И. Ленина. В ответ я услышал: «Ну и дает, Мотл-Буцик!» Вскоре все Хойники были в курсе, что сын Ривы-Буцик учится не просто в Москве, а в каком-то заведении имени самого Ленина.
Из далекого детства запомнились балаголы-извозчики. Одного звали Симон. В летние месяцы, когда студенты приезжали из городов в родные места на каникулы, у них было много работы. Дети встречали извозчиков с дорогими гостями и бежали вслед за повозками, нагруженными доверху чемоданами, баулами, узлами вещей.
[Слева направо стоят: Маня и Люба Розенберг, Яков и Глафира Милявские, Женя (Кофман) и Матвей Милявские, Роза Кофман; второй ряд – сидят: Абрам Розенберг, Броня Милявская, Шеел и Рива Милявские, Лазарь Кофман; третий ряд – сидят (дети): Лева Розенберг, Алик, Таня, Борис Милявские. Хойники, 1959 г.] В зимнее время к домам вели узкие протоптанные в снегу тропинки. Вечерами главным развлечением было навестить знакомых. Чаще других мы посещали мамину сестру тетю Бейлу и дедушку Нохима. Из соседей приятнее было бывать у Смоленских и Сухоренковых. Это были доброжелательные люди. Мы хорошо понимали друг друга. Угощение почти везде было одинаковым – самовар, печенье, варенье и семечки. Летом посреди двора вился дымок костра – это наши мамы готовили варенье на зиму. Пенка от варенья доставалась детям, которые терпеливо дожидались ее рядом. Клубника, малина, вишня – вот почти все разнообразие, которое было характерно для Хойников и любого белорусского местечка тех лет.
Местечковые гурманы… Хорошо помню, как мама старалась порадовать нас фаршированной рыбой. Было это очень редко, на праздники и в субботу. Не меньшим лакомством был эсек-флейш (кисло-сладкое мясо). Когда же мама к чаю подавала струдл и флудек, черничный торт – традиционные еврейские лакомства, мы были на вершине блаженства.
Благотворительность и помощь нуждающимся оставались неотъемлемой частью довоенных Хойников. Мы не жили в большом достатке, но накануне субботы мама посылала нас к далекой родственнице, семья которой жила в крайней нужде. Мама собирала в корзиночку по кусочку от всего, что приготовила к столу. Знаю, что подобным образом поступали другие еврейские семьи. Этим не хвастались, таков был неписанный закон местечковой жизни.
Далей
 Гомель. Автомобильные дороги связывают его с Речицей. После страшной атомной аварии в Чернобыле в 1986 году Хойники получили печальную известность как место в Беларуси, особо пострадавшее в результате трагедии – радиоактивное облако накрыло городок.
Гомель. Автомобильные дороги связывают его с Речицей. После страшной атомной аварии в Чернобыле в 1986 году Хойники получили печальную известность как место в Беларуси, особо пострадавшее в результате трагедии – радиоактивное облако накрыло городок. болота. Летом местная детвора забиралась в эти дебри, чтобы нарвать съедобную зелень – плюшняк. Его сносили в местечко целыми снопами и, устроившись на крыльце, с удовольствием ели сами и угощали прохожих. Современному поколению моих земляков вряд ли придет в голову такая затея, но для нас бродить по болотам и жевать сладкие стебли было привычным развлечением.
болота. Летом местная детвора забиралась в эти дебри, чтобы нарвать съедобную зелень – плюшняк. Его сносили в местечко целыми снопами и, устроившись на крыльце, с удовольствием ели сами и угощали прохожих. Современному поколению моих земляков вряд ли придет в голову такая затея, но для нас бродить по болотам и жевать сладкие стебли было привычным развлечением. довольно далеко.
довольно далеко. поисках колодца и совершенно неожиданно встретили моего одноклассника Исаака Добкина.
поисках колодца и совершенно неожиданно встретили моего одноклассника Исаака Добкина.
 [Мотель Каралинский, брат Матвея Милявского. Днепропетровск. 1951 г.] Дедушка, опасаясь за судьбу близких, и особенно за старшего сына Хаима, жившего в Петрограде, долгое время держал это известие в тайне. После войны, в 1947 году в Хойники на наше имя пришла посылка из Палестины. Но родители, опасаясь последствий для других детей, отказались ее получить. Прошло еще почти пятьдесят лет, Советский Союз распался, и мы получили возможность выехать на постоянное место жительства в Израиль.
[Мотель Каралинский, брат Матвея Милявского. Днепропетровск. 1951 г.] Дедушка, опасаясь за судьбу близких, и особенно за старшего сына Хаима, жившего в Петрограде, долгое время держал это известие в тайне. После войны, в 1947 году в Хойники на наше имя пришла посылка из Палестины. Но родители, опасаясь последствий для других детей, отказались ее получить. Прошло еще почти пятьдесят лет, Советский Союз распался, и мы получили возможность выехать на постоянное место жительства в Израиль.
 подстричься. Хазанович обратил внимание на мою форменную одежду курсанта МДК ВПУ и поинтересовался, что это значит. Я расшифровал – Московское дважды краснознаменное военно-политическое училище им. В. И. Ленина. В ответ я услышал: «Ну и дает, Мотл-Буцик!» Вскоре все Хойники были в курсе, что сын Ривы-Буцик учится не просто в Москве, а в каком-то заведении имени самого Ленина.
подстричься. Хазанович обратил внимание на мою форменную одежду курсанта МДК ВПУ и поинтересовался, что это значит. Я расшифровал – Московское дважды краснознаменное военно-политическое училище им. В. И. Ленина. В ответ я услышал: «Ну и дает, Мотл-Буцик!» Вскоре все Хойники были в курсе, что сын Ривы-Буцик учится не просто в Москве, а в каком-то заведении имени самого Ленина.